
|
|
|||||||
| Новости | Мероприятия | Персоны | Партнеры | Ссылки | Авторы | |||
| Дискуссии | Гранты и конкурсы | Опросы | Справка | Форум | Участники | |||
Все права защищены и охраняются законом.
Портал поддерживается .
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на http://ipim.ru обязательна!
Все замечания и пожелания по работе портала, а также предложения о сотрудничестве направляйте на info@ipim.ru.
© Интернет-портал интеллектуальной молодёжи, 2005-2025.
![]()
|
|
« вернуться к списку |
Алгоритм инноваций. Плавающий критерий новизны и экспертиза
23 сентября 2013 22:37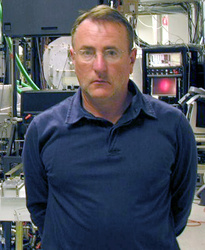
Эксперт по технической оценке проектов Bob Iofis, Кремниевая долина (США). Фото с сайта www.strf.ru Я уже писал, что существующее правило для (большинства) российских разработчиков в обязательном порядке патентовать свои ТР сначала в своей стране, а потом уже где угодно, возможно, оправданно для режимных отраслей, но сильно вредит инновационному развитию в целом. Когда по традиции структура постановки и решения научно-технических задач искусственно изолирована, остаётся мало места для индивидуальных усилий и коммерческого интереса учёных и инженеров. Успешные современные корпорации high tech, в том числе работающие в засекреченных отраслях, есть результат аккумуляции многих инкрементных, распределённых результатов всей индустрии high tech. Как было указано выше, существующий сегодня успешный механизм коммерциализация инкрементных R&D осуществляется на основе частного бизнеса, с участием государства в форме конкурентной грантовой поддержки. Разработка и коммерциализация необходимых технологий и продуктов должна вестись вне зависимости от их конечного назначения. Момент и сама возможность изоляции разработки определяется грантодателем и условиями, прописанными в контракте на его получение. Патентование – один из таких моментов.
Если 25 лет назад эксперты тогдашнего ВНИИПЭ могли легко "завернуть" заявку с недостаточным, на их взгляд, обзором зарубежных патентов в качестве аналогов, то
сейчас, как показывает практика, во многих случаях для получения патента достаточно доказать отличия только от российских аналогов.
Иногда достаточно нескольких ссылок на зарубежные иностранные публикации, и патент выдаётся. С удивлением наблюдаю, что ТР, на которые выданы российские патенты и которые должны приниматься как обладающие мировой новизной, зачастую обладают лишь новизной локальной. Разумеется, у меня нет статистики, но даже отдельных случаев достаточно, чтобы утверждать: это убийственное, по сути, снижение планки требований. Разработчик считает свою задачу выполненной, российский инвестор в лучшем случае всё перепроверяет и не инвестирует уже по одной этой причине. В худшем – инвестирует фактически в бизнес-решение. Никакого коммерческого потенциала быть доведённым до продаж на мировом рынке у таких ТР нет. Первый же независимый анализ обнаруживает, что в мире это давно известно.
До зарубежного патентования подавляющее большинство разработок не доходит, нет необходимости.
Это подтверждается результатами на выходе. Из многих проектов, которые я знаю, например "Сколково", ни один не подходил для инвестирования в представленном виде. Инвесторы, которые оперируют на мировых рынках high tech, требуют демонстрации доказательства прямого влияния отличий новых ТР от prior art на экономическую эффективность инвестиций. Соответственно, если международно признанного доказательства отличий не видно, рассматривать нечего. Относительно немногие случаи успешной защиты ИС вне пределов России и редкие попытки вывода своих продуктов на международные рынки лишь подчёркивают несоответствие хорошего потенциала слабым результатам.
Не углубляясь в подробности, отмечу, что разумные попытки, предпринятые в СНГ в этом направлении, плохо исполнены. Идея, например, размещения технопарков для частных фирм high tech в географической зоне "влияния" научно-исследовательских организаций была бы ничуть не хуже аналогичных структур в других странах, если бы не особенности исполнения. Дьявол, как всегда, в мелочах.
Обычно всё, что требуется от частной фирмы для того, чтобы расположиться в технопарке, это оплата помещения. А уже условие типа "если станешь резидентом, тогда можешь претендовать на финансирование/преимущества", прямо указывает на вторичность интересов частных разработчиков. Неясно, за счёт чего именно выполнение такого условия повышает эффективность использования денег налогоплательщиков. Уже из этого примера следует много выводов. Если в потенциальный баланс интересов заложена возможность сдвига интересов частных разработчиков и налогоплательщиков в пользу кого-либо ещё, появляется желание этот баланс нарушать. Что и происходит. То строительство, нацеленное не обязательно на развитие high tech, то сверхвысокие зарплаты, то неясная экспертиза, проводимая неизвестно кем.
Экспертиза
На экспертизе следует остановиться подробнее. Применение принципа анонимной независимой экспертизы сработало бы, если бы выбор у экспертов действительно был. Для этого требуется возможность привлечения независимых экспертов, например как в DARPA – с большим современным опытом в узкой индустриальной нише high tech. В условиях, когда таких экспертов просто не существует в силу отсутствия современных индустрий high tech и тем более конкурентного рынка, единственным решением может быть "экспертиза" заинтересованного частного участника рынка. Его мнение может иметь "вес", пропорциональный размеру капитала, которым он лично рискует. Не уверен сам – найми настоящего эксперта хоть в Европе, хоть в Америке. Любые государственные служащие в качестве экспертов с позиций занимаемых ими постов – это недоразумение за счёт налогоплательщиков, равно как и менеджеры – экономисты, историки, врачи, продавцы и т.д. – все, кто не имеет современного промышленного или как минимум академического опыта в high tech.
Отсутствие истинного профессионализма в атмосфере информационного шума и неуместного PR при откровенном отсутствии субъекта как раз создаёт впечатление игры на деньги.
"Индустриальная" экспертиза отвечает на вопрос, какие ТР нужны, чтобы выдерживать конкурентную борьбу на данный момент и в обозримом будущем, в то время как "научная" экспертиза лишь подтверждает, что выбираемое направление перспективно с научно-технической точки зрения.
Находясь снаружи индустрии, невозможно оценить глубину, объём, интенсивность конкурентной борьбы.
Помимо прямых денежных результатов от исполнения контрактов на разработку и поставку ТР, воплощённых в работающем hardware и software, ставками в конкурентной борьбе являются судьбы тысяч участников, а также будущее миллионов пользователей во всём мире. Цена ошибки исключительно высока. Экспертиза в этих условиях – не просто мнение эксперта, а скорее сумма результатов данных, полученных в процессе удачных и неудачных R&D, как собственных, так, иногда, и конкурентов. При этом носителями экспертных знаний с "передовой" становятся не учёные, а непосредственные архитекторы и исполнители R&D частных компаний. Естественно, основная информация о том, что варится в этом котле, конфиденциальна. Хотя разработки базируются на известных достижениях науки, никаких научных публикаций по конкретным направлениям конкурентного R&D в процессе продуктизации нет и быть не может. Поэтому индустриальная экспертиза "изнутри" не может быть сравнима с экспертизой учёных, чей уровень базируется на индексе цитирования научных публикаций. Более того, выводы экспертиз могут кардинально отличаться. И уж совсем неочевидно, что причины несовпадения так и останутся невыяснены.
Передача экспертизы конкурентам через привлечение индустриальных экспертов, активных внутри отрасли, запрещена условиями контракта с работодателем. Практически она происходит без передачи знаний о конкретных технологиях конкурентов, но с передачей опыта в контексте "теперь надо решать нашу задачу". Проблема зачастую в том, что сделать fundable из non-fundable мало кому удаётся. Экспертиза должна не только хорошо разбираться одновременно в технических и инвестиционных вопросах, уметь находить и отличать те, у которых есть научно-технический потенциал, но и уметь помочь практически в коммерциализации на мировом рынке, если мы говорим о настоящих инновациях.
На самом деле никаких проблем с экспертизой в мире нет.
Когда в 90-е годы массовое мировое производство полупроводников распространялось из США в Японию, а затем на Тайвань, в Корею и другие страны, американские индустриальные эксперты в составе своих компаний-разработчиков массово привлекались (и привлекаются сегодня) для осуществления всего спектра задач – от разработки ТР, "отстраивающих" технологию и продукцию заказчика от конкурентов, до установки технологических линий на своих предприятиях. Причём 90% работ годами делались и делаются дистанционно, всё необходимое программное обеспечение для обмена технической информацией, процессов принятия решений, распределённого проектирования (не говоря уж о современных возможностях коммуникаций) давно существует. И только на этапах запуска и тестирования физическое присутствие эксперта может быть необходимым. Кстати, я сам присутствовал при передаче европейской коммерческой фирме технологической линии, которая была создана российскими разработчиками в рамках изолированного ведомственного R&D. Что было конечным этапом всего процесса экспертизы. В обратную сторону (извне в Россию) это работает, по моим наблюдениям, только на таком конечном этапе. Для быстрого и гибкого развития современного high tech с момента инициации R&D и последующим вовлечением частного коммерческого потенциала этого недостаточно.
Bob Iofis, Кремниевая долина, США
источник:
Последние материалы раздела
- 30 декабря 2016
Диссертация Мединского как летучий голландец - 30 декабря 2016
Работа есть — денег нет - 29 декабря 2016
"Основной удар придется на московские и петербургские институты" - 29 декабря 2016
Советник Путина: Россию могут отключить от интернета - 28 декабря 2016
Драйверы инноваций
Обсуждение
Добавить комментарий
Обсуждение материалов доступно только после регистрации.